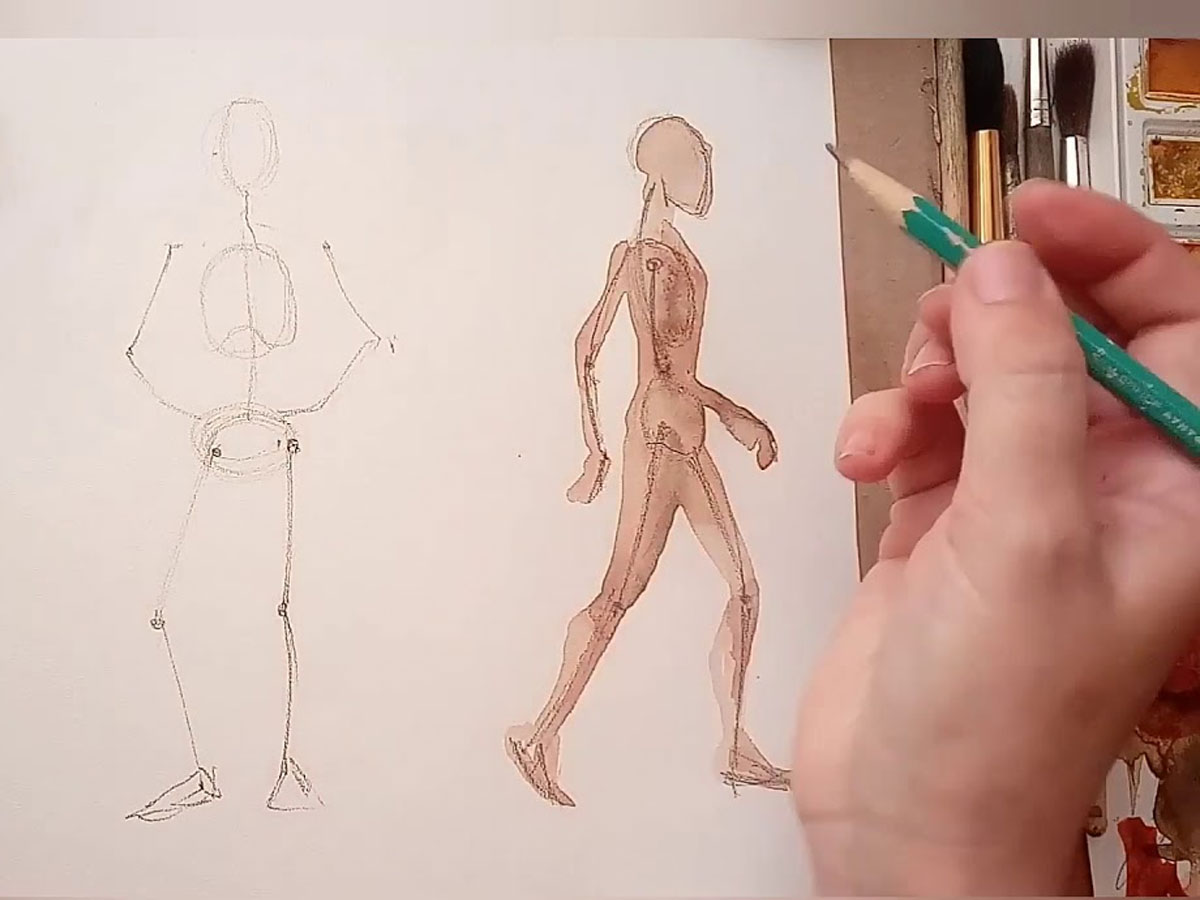Грех против Церкви. Правление Петра Великого
Грех против Церкви
Думы о русской интеллигенции
«Заходит солнце, заливая пурпуром стволы берез и золотистую листву. Над Москвою гудит и медленно расплывается в воздухе колокольный звон: звонят ко всенощной.
Архангельский. Зазвонила Москва. До чего ж я люблю ее, братцы!
Онуфрий. По какому случаю трезвон?
Архангельский. Завтра же воскресенье. Ко всенощной.
Мишка. Молчи, молчи! Слушайте! (Издает грудью певучий глубокий звук в тон поющим колоколам.) Гууууу, гууууу...
Глуховцев (вскакивает). Нет, я не могу! Это такая красота, что можно с ума сойти. Оля, Ольга Николаевна, пойдемте к обрыву.
Голоса. И мы, и мы. Да оставьте вы ваше пиво, Онуфрий Николаевич!
(Все высыпают на край обрыва. Мишка со стаканом пива, Онуфрий держит бутылку и время от времени пьет прямо из горлышка. Слушают.)
Онуфрий. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он (пьет)».
На «много дум» наводит эта небольшая сценка из драмы Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Древняя столица православного русского царства тысячью голосов зовет во храмы на молитву, а группа молодежи, студентов, среди которых есть и бывший семинарист попович Архангельский, слушает этот «звон призывный» с обрыва Воробьевых гор. Правда, звоном восхищаются, но восхищаются звоном, как явлением своеобразно эстетическим. Звон – лишь случайная интересная обстановка для загородного пикника, то же, что музыка в ресторане, и под звон церковных колоколов студенты пьют пиво, кто из стакана, а кто и прямо из бутылки.
Может ли быть еще ярче описана духовная раздвоенность Русской земли? Когда одни, услышав благовест, благоговейно крестятся и идут к всенощной, – другие под звон колоколов пьют пиво на Воробьевых горах! Наша Русь может сказать о себе словами Фауста:
Ах, две души живут в моей груди.
Одна все отделиться хочет от другой!
Времена великих народных потрясений, вроде тех, какие мы переживаем теперь, не должны проходить бесследно для народного самосознания, для врачевания народных недугов. Нельзя в настоящее время не размышлять над судьбами родной земли, не болеть ее недугами, не помышлять об исцелении этих недугов. Болезненная раздвоенность русской души очевидна всякому мыслящему наблюдателю жизни. Когда эта болезнь началась, как она развивалась, в чем ее сущность, как от нее избавиться? – на все эти вопросы нельзя не пытаться дать себе ответ всякому, кто хочет послужить родной земле.
Когда страждущие и болящие просили у Христа исцеления, Он им говорил о прощении грехов. Болезнь от греха. Если Русская земля больна, то чем же она особенно грешна? Вопрос о сущности русской болезни переходит в вопрос о главнейшем русском грехе.
Подобными вопросами еще в средине прошлого века занимались славянофилы, самый пламенный из которых – Константин Аксаков, между прочим, так рассуждал в своей статье «Публика и народ»1:
«Было время, когда у нас не было публики... Возможно ли это? – скажут мне. Очень возможно и совершенно верно: у нас не было публики, а был народ. Это было еще до построения Петербурга. Публика – явление чисто западное и была заведена у нас вместе с разными нововведениями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью. Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Западом; выписывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется перед ним, как пред учителем, занимает у него мысли и чувства, платя за это огромною ценою: временем, связью с народом и с самою истиною мысли. Публика является пред народом, как будто его привилегированное выражение, в самом же деле публика есть искажение идеи народа.
Разница между публикою и народом у нас очевидна. Публика подражает и не имеет самостоятельности: все, что она принимает чужое, принимает она наружно, становясь всякий раз сама чужою. Народ не подражает и совершенно самостоятелен; а если что примет чужое, то сделает это своим, усвоит. У публики свое обращается в чужое. У народа чужое обращается в свое. Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда публика танцует, народ молится. Средоточие публики в Москве – Кузнецкий мост. Средоточие народа – Кремль.
Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки, народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ – по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ – в русском. У публики – парижские моды, У народа – свои русские обычаи. Публика ест скоромное, народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большею частью ногами по паркету); народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ, народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте, в народе – золото в грязи. У публики – свет (monde, балы и пр.); у народа – мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас – почтеннейшая, а народ – православный.
«Публика, вперед! Народ, назад!» – так воскликнул многозначительно один хожалый».
В свое время статья Аксакова с этими рассуждениями была признана вредной, и газету, в которой она была напечатана, закрыли. Конечно, в рассуждениях Аксакова есть нечто специально-славянофильское, но в них правильно отмечен исторический факт: раскол в русском народе, отпадение публики от народа произошло под влиянием Запада и произошло тогда, когда этому влиянию Россия была покорена Петром. Болезнь русской души, следовательно, имеет уже двухвековую давность. Двести лет назад всеяны были в русскую душу семена раздвоения, и двести лет болезнь эту почти никто не лечил; она лишь осложнялась и развивалась.
Болевшие сердцем над судьбами своей родины славянофилы источник ее бедствий искали на Западе. При этом славянофилы противопоставляли Россию Западу в многих отношениях. И несомненно, славянофилы во многом были правы. Но если на все смотреть преимущественно с церковной точки зрения, тогда многие вопросы, весьма горячо обсуждавшиеся славянофилами, как-то теряют свою остроту, а вперед, на первое место выступает интерес церковный. Когда я себе задаю вопрос о сущности болезненного раскола в среде русского народа, я склонен бываю усматривать эту сущность в сфере церковной и религиозной. Русская болезнь имеет в своей основе грех против Церкви. Отношение к Церкви – вот пробный камень для русского человека. Кто верен Церкви, тот верен России, тот – воистину русский. Кто отрекся от Церкви, тот отрекся от России, оторвался от русской почвы, стал беспочвенным космополитом. В жизни исключительно религиозных народов всегда так и бывает. Например, среди евреев настоящими евреями можно назвать лишь тех, кто верен закону Моисееву. Еврей же, от закона Моисеева отрекшийся, есть непременно полный нигилист, вредный и для своего народа и для всякого другого, в котором он живет. Параллельно этому именно русская интеллигенция поставляла в европейскую жизнь самых радикальных отрицателей, нигилистов и анархистов. Толстой и Бакунин – наши. Русских революционеров гоняют и в Западной Европе. Никакой человек, может быть, так не заглядывал в бездны отрицания, как человек русский.
Русский народный характер воспитался в течение целых веков под руководством Церкви, а потому отпадение от Церкви для русского человека и является почти непременно отпадением от России. Россию можно представить без парламента, без университетов, но Россию нельзя представить себе без Церкви.
Сущность русской народной болезни и можно усматривать в том, что часть русского народа тяжело согрешила против Церкви, отошла от Церкви, вышла из-под ее руководства, потеряла связь с жизнью церковной. История русского идейного раскола может подтвердить много раз это общее положение.
Но кто соблазнил русских людей на грех и как произошло в России отпадение от Церкви? Это отпадение от Церкви произошло под влиянием Запада, уже давно отпавшего от Церкви. Это именно Запад соблазнил русских людей высокомерно относиться к Православной Церкви, даже ее презирать, – и в этом можно видеть самое вредное и пагубное влияние Запада на русскую жизнь. То правда и, может быть, неоспоримо, что с внешней стороны русская жизнь многое получила от Запада, но так же несомненно и то, что душа русская получила от Запада тяжелую и болезненную рану, которая горит и не дает покоя русскому человеку доселе.
До Петра русский народ от верху до низу был одинаково православным и церковным. Это было одно церковное общество, церковное тело. Церковь была для него верховным авторитетом и самой высшей ценностью. «Освященный собор» высших иерархов был ближайшим советником московских царей даже и в делах государственных.
Вся преобразовательная деятельность Петра направлена была к унижению Церкви и к подрыву ее силы и авторитета. Прежде в московском Кремле митрополит или патриарх был «отцом и богомольцем», иногда «собинным другом» и всегда почти советником князей и царей. Первый русский император уничтожил и самое патриаршество, заменив его небывалой синодальной формой церковного управления. Сколько бы ни писалось в Регламенте о преимуществах коллегиальной формы правления пред единоличной, там не только чувствуется между строк, но и положительно высказана главная цель предпринимавшейся церковной реформы. Эта цель в том, чтобы для народа никто не стоял рядом с царем, чтобы государственная сторона жизни стала на первом месте, а Церковь отошла в сторонку, потеряла свою самостоятельность и подчинилась государству, так что монарх становится крайним судиею духовной коллегии.
Давно уже признано, что взгляды Регламента на отношение Церкви к государству и вся им предполагаемая реформа церковного управления заимствованы на Западе и навеяны духом немецкого протестантства. Идеи Регламента скоро перешли в жизнь государственную и сразу унизили положение Церкви в России. Петр и его «сподвижник» Феофан Прокопович, разумеется, не встретили сочувствия в русской церковной иерархии, и Петр скоро совершенно отвернулся от великороссийских иерархов. Русских святителей как бы заменили для Петра различные иноземные выходцы, преимущественно немцы. И какие немцы? Худородные, грубые и невежественные. Влияние Церкви было заменено немецким засильем над русскою государственною жизнью. Начался XVIII век, этот темнейший и несчастнейший век в русской истории. Над поверхностью русской народной жизни всплыли верхние правительственные слои, чуждые русской земле и по крови, и по языку, и по вере. Иностранцы, даже вовсе не знатные, давали свой тон всем верхним кругам и русского общества. XVIII век был временем страдания всей русской земли от чужих ей иноземцев, поставленных, однако, ею управлять и ею руководить. Понятно, что особенно тяжело в течение этого века было положение Церкви. Когда у кого иссякает любовь к Церкви, ослабевает ревность о деле и служении церковном, тогда полезно изучать русскую церковную историю за XVIII век. Бедствия и гонения, пережитые Церковью в России за этот век, могут растрогать даже и равнодушное к славе церковной сердце! Первая половина XVIII века была наполнена положительным гонением на Церковь, а вторая половина – высокомерным презрением к Церкви.
Со времен Петра вся высшая иерархия Церкви взята была под подозрение. Петр подозревал ее – и, конечно, не безосновательно! – в полном несочувствии его церковным и государственным преобразованиям. Народившееся после Петра немецкое правительство чувствовало себя на русской земле непрочно, боязливо и подозрительно. Дворец и крепость тогда часто менялись жильцами. Сыск самый безудержный, пытки и казни обрушились на головы русских людей, и едва ли не в первую очередь на головы церковных деятелей. Гонения и притеснения Церкви были еще новинкой, иерархия к ним еще не привыкла, и понятно, что у нее часто не хватало терпения и вырывались вздохи ропота. Кроме того, при новом правительстве иерархия не могла исполнять некоторых своих архипастырских обязанностей без того, чтобы не возбуждать недовольства правительства. Вместе с немцами начали проникать в Россию и немецкие лжеучения. Долг иерархии был – опровергать и обличать эти лжеучения, преимущественно протестантские. Но на опровержение протестантства правительство смотрело как на заговор против себя, как на политическую неблагонадежность. В тридцатых годах два синодальные члена – архимандриты Евфимий и Платон были расстрижены за перевод и распространение одной книги против протестантства. Преступным оказалось в книге то, что в ней будто бы «неправдою и неверностью помараны все сплошь протестанты, из которых многое число честные особы и при дворе, и в воинском, и в гражданском чинах рангами высокими почтены служат, из чего великопочтенным особам не мало учинено огорчение». Среди немцев – гонителей Церкви наряду с Бироном, Остерманом и Минихом следует назвать и Феофана Прокоповича, этого ставленника и «сподвижника» Петрова. Этот образованный и талантливый иерарх приносил в жертву своему самолюбию и честолюбию интересы Церкви. Многие бедствия постигали и всю Русскую Церковь, и отдельных иерархов по наветам Феофана. Неугодных ему иерархов Феофан лукаво обвинял в бунтарских замыслах против немецкого правительства и тем ожесточал это правительство против Церкви.
Особенно жестокому гонению подверглось в новом русском государстве монашество, которого протестанты, конечно, не могли никак понять. Чуждое древнерусскому православному миросозерцанию, правительство смотрело на монашество лишь с ограниченной и узкой точки зрения – государственной. Для правительства монахи были только тунеядцами, которые «бегут от податей и от лености, дабы даром хлеб есть». И вот немецкое правительство грубо вторгается во внутреннюю жизнь Церкви. Пострижение в монашество совершенно запрещается. Указ об этом был издан один Петром, 28 января 1723 года2, а другой в 1734 году 10 июня правительством Анны Иоанновны3. Целые сотни монахов обрекались в то же время на расстрижение, хотя они часто уже имели священный сан. Вина их тяжелая была лишь та, что пострижены они были без разрешения, например, кабинета министров, где главным лицом был немец Остерман. Опустошая монастыри до того, что в них иногда некому было служить литургию, правительство, начиная с Петра, посылало туда на содержание, взамен монахов, отставных военных, даже неправославных, рассуждая так: «получать пропитание они будут по указу, а до веры их в том не касается». Понятно, что получалось в монастырях от таких насельников! Мало того. Правительство начало смотреть на монастыри как на тюрьмы для политических преступников, а таких тогда, при болезненной подозрительности правительства, было много. Надзор за заключенными и ответственность за их целость лежала на монахах. Наконец, в монастыри правительство скрывало порой свои жертвы: среди пыток в застенках тайной канцелярии многие сходили с ума, и этих сумасшедших также отправляли в монастыри.
Так жила Церковь в России при Петре и его ближайших преемниках. При воцарении Елисаветы блеснул светлый луч надежды на лучшее. И вот как церковные проповедники на церковном амвоне вспоминали недавнее прошлое. В день Благовещения в 1742 году Димитрий Сеченов говорил: «Было неблагоприятное время. Противницы наши добрую дорогу, добрый ко утеснению нас сыскали способ, показывали себе, аки бы они верные государству слуги, аки бы они сберегатели здравия государей своих, аки бы они все к пользе и исправлению России промышляют; а как прибрали все отечество наше в руки, коликий яд злобы на верных чад российских отрыгнули; коликое гонение на Церковь Христову и на благочестивую веру восставили; их была година и область темная: что хотели, то и делали... Догматы христианские в басни и ни во что поставляли; святых угодников Божиих не почитали; иконам святым не кланялись; предания апостольские и святых отец отвергали... А наипаче коликое гонение на самих Священных Тайн служителей, чин духовный: архиереев, священников, монахов мучили, казнили, расстригали; непрестанные почты, и водою и сухим путем – куда? зачем? – монахов, священников, людей благочестивых в дальние сибирские города – в Охотск, Камчатку, Оренбург отвозят; и тем так устрашили, что уже и самые пастыри, самые проповедники слова Божия молчали и уст не смели о благочестивости отверзти». Еще несколько раньше (18 ноября 1741 года) Кирилл Флоринский в проповеди же говорил: «Доселе дремехом, а ныне увидехом, что Остерман и Миних со своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарии диавольские, им же, попустившу Богу, богатства, слава и честь желанная приключишася; сие бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного услужения государству российскому, еже первейшее и дражайшее всего в России – правоверие и благочестие не точию превратят, но и искореня истребят».
Не нужно быть человеком, любящим особенно Церковь и болеющим о ней, чтобы признать первую половину XVIII века нашей истории временем темным и мрачным. У наших историков есть склонность превозносить гений Петра и жестоко обрушиваться с порицаниями на его преемников, но в отношениях к Церкви именно Петр задал основной тон всему XVIII веку: ведь у него были друзья протестанты, ему были противны великорусские иерархи, он состоял протодиаконом всепьянейшего и всешутейшего собора, он дал полный перевес началу государственному над началом церковным, он уничтожил патриаршество, чтобы оно не мешало ему, он даже колесовал одного епископа.
Так произошел первый разрыв среди русского общества. Он вырос из греха против Церкви.
Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский
Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский